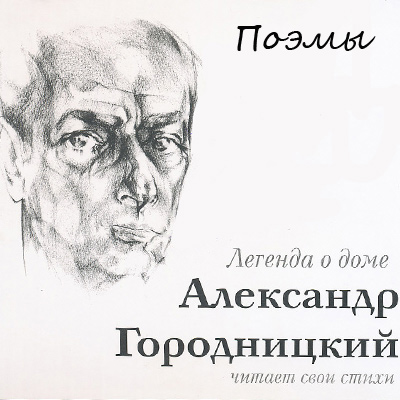Accords's main page | LINKS my Best OFF | Feedback and suggestions
Александр ГородницкийПолный список песен Разные песни Река времён (1982) Легенда о доме. Берег (1984) Берег (1988) Легенда о доме. Полночное солнце (1990) Легенда о доме. Перелётные ангелы (1991) Около площади (1993) Легенда о доме. Остров Израиль (1995) Легенда о доме. Созвездие Рыбы (1995) Легенда о доме. Ледяное стремя (1997) Легенда о доме. Поэмы (1997) Как медь умела петь (1997) Давай поедем в Царское Село (1998) Легенда о доме. Имена вокзалов (1999) Снег / 1953-1961 (2001) В океане зима / 1962-1963 (2001) Над Канадой небо синее / 1963-1965 (2001) Друзья и враги / 1966-1970 (2001) Аэропорты 19 века / 1970-1972 (2001) Острова в океане / 1972-1977 (2001) Если иначе нельзя / 1977-1981 (2001) Спасибо, что петь разрешили / 1982-1984 (2001) Беженцы-листья / 1988-1994 (2001) Имена вокзалов / 1995-2000 (2001) Двадцать первый тревожный век / 2000-2003 (2003) Кане-Городницкий - Возвращение к прежним местам (2003) Стихотворения (2003) Легенда о доме. Родство по слову (2005) Уйти на судне (2005) Легенда о доме. Гадание по ладони (2005) Гадание по ладони (2007) Легенда о доме. Коломна (2008) Новая Голландия (2009) От Оренбурга до Петербурга (2009) Глобальное потепление (2012) Всё была весна (2013) Споём, ребята, вместе (2014) Давайте верить в чудеса (2015) Перезагрузка (2017) Книжечки на полке (2020) |
| |||
Легенда о доме. Поэмы (1997)Старый патефон
(А.Городницкий) Для чего храню на антресолях Патефон с затупленной иглою И пластинок довоенных пачку? Всё равно я слушать их не буду. Все они, согласно этикеткам, Сделаны Апрелевским заводом. Тот завод давно уже закрылся, Но своим мне памятен названьем, Так же, как и Баковский, наверно. Я пытался как-то на досуге Оживить его стальную душу И крутил весьма усердно ручку, Чтобы завести его. Когда-то Заводили так автомобили. Но пружина, видимо, ослабла, А чинить никто и не берётся. Впрочем, мне достаточно названий Песенок на выцветших конвертах, - Перечту - и снова зазвучали. Сорок пятый. Лето. Чернолучье - Пионерский лагерь возле Омска, И песчаный пляж на диком бреге Иртыша. Не первая любовь, А, скорее, первая влюбленность. Мне двенадцать, ей - едва за десять, И зовут, конечно же, Татьяна. Поцелуи? Боже упаси! - Только разговоры или вздохи. Лето сорок пятого, а значит, В Ленинград мне скоро возвращаться, Ей же - в Белоруссию. И письма Шли шесть лет из Бреста в Ленинград И обратно. Каждый адресат Уверял другого в вечной дружбе, Что с годами перейдет, быть может... Помню, классе, кажется, в девятом, Получил в письме я фотоснимок: На крыльце сидит она. Коса За плечо закинута, и грудь Проступает явственно под блузкой. Бешено заколотилось сердце, И во рту внезапно пересохло. Через пару лет она и вправду Прикатила в Питер и учится Поступила в университет На истфак. Вот тут бы и расцвесть Вновь эпистолярному роману! Но её тогда я познакомил Со своим приятелем случайно. Был я - первокурсник желторотый, - Он уже заканчивал второй, И носил горняцкую фуражку С узким козырьком "А-ля Нахимов" И высокой бархатной тульею, Чёрного же бархата погоны С золочёным вензелем литым И изящной синей окантовкой. Надевал он тёмные очки И, общественной согласно мерке, Приобрёл мужской изрядный опыт, Ибо регулярно посещал "Мраморный" - весьма известный зал Танцевальный в Кировском ДК, Где происходили, то и дело, Громкие разборки из-за женщин Между горняками (общежитье Наше было рядом - Малый сорок) И курсантами морских училищ, Чаще с преимуществом последних, В те поры ходивших с палашами. Мой же опыт равен был нулю. В этом месте можно ставить точку, Потому, что старая пластинка, С хрипотцой утёсовской лукавой, Мне некстати вдруг напоминает, - У меня есть сердце, а у сердца - Песня, а у этой песни - тайна. Тайна же - достойна умолчанья, Да и патефон ведь неисправен. Прощание с кинематографом
(А.Городницкий) "Из всех искусств для нас наиважнейшим Является кино", - заметил Ленин. И не ошибся: в школьные года, Послевоенные, да и позднее тоже, Оно сердца нам жгло на всю катушку. Катушки эти, помню, привозили В тяжёлых несгораемых коробках, Защитною окраскою и формой Напоминавших цинки для патронов Или противотанковые мины, Которые в ту пору находили Под Сиверской и возле Сестрорецка... Ах, эти фильмы! Именно по ним Учились мы, как надо целоваться, Закуривать и открывать бутылку, Да и другим вещам, необходимым Для юношеской жизни, о которых Умалчивали школьные программы. Ах, эти фильмы старые! Бернес Молоденький в петлицах с кубарями: "Любимый город может спать спокойно"; Орлова в "Цирке", "Леди Гамильтон"! Потом пошли трофеи: "Башня смерти", Марика Рёкк, "Восстание в пустыне". На сером полоне киноэкрана Вскипали вдруг коричневые пятна, Как пенки на топлёном молоке, И вспыхивал внезапно в зале свет. Кричали дружно зрители: "Сапожник!", Свистели или топали ногами. Кино объединяло всех тогда. Всё было общим здесь: любовь и смех, И ненависть, и слезы, и веселье. Переполняла гордость нас, когда Под звуки марша, в кадрах кинохроник Комбайны шли шеренгой, из ковша Расплавленная вытекала сталь И падали фашистские знамёна У мраморных ступеней Мавзолея. А что за лица! Бабочкина помнишь? Или Чиркова в "Юности Максима"? Теперь уже и нет таких актёров. А Симонов, играющий Петра? Или вот этот - кажется, Филиппов, Ну, в общем, с бородою, - во давал! А песни, что однажды прозвучав, Охватывали целую страну! Я до сих пор их помню: "Три танкиста", Или "Шаланды, полные кефали". Прощай, кино. Я больше не увижу Табачный дым, сияющий в луче. Не заскрипит, как прежде, подо мной Фанерное сиденье откидное... Прощай, эпоха кадров чёрно-белых, Окрестный мир делившая наивно На эти два несовместимых цвета. Увы, сложнее он и многогранней, И не влезает более в экран. Прощай, кино. Ты и на самом деле Важнейшее искусство для народа. Ты умерло - и вот народа нет. Осталось население, частично Распавшееся на электораты, Грызущие друг друга. Твой экран, Необозримый, широкоформатный, Рассыпался на тысячи убогих Телеэкранов, заперых в квартирах. Так колокол огромный вечевой, Разбитый на осколки, никогда Не обретёт первоначальный голос. Поэтому прощай, кинематограф. Твою неистребимую соборность Не заместит сегодняшняя церковь: Нельзя там ни смеяться, ни свистеть, Ни по бедру поглаживать соседку... Прощай, мой первобытный древний бог. В твоих безлюдных обветшалых храмах Теперь автомобильные салоны И распродажа мебели. "Природа Не терпит пустоты", - как заявил Помешанный на ртути итальянец. Прощай, кинематограф. Ты теперь Искусство ретро, как и оперетта, Что вытеснена шоу, или книга В суровую эпоху Интернета. Прощай, кино. Уже не будем мы Из темноты с надеждою на свет Смотреть, завороженные лучом Твоей трескучей кинопередвижки. Прощай, моё важнейшее искусство, Последняя и первая любовь. Ты - жизнь моя, которая прошла И более уже не повторится. Гет
(А.Городницкий) С первой женой разведён я дважды. Питерским ненастным летом В первый раз нас развёл народный Суд Московского района В здании круглом, построенном в стиле Конструктивизма времён тридцатых. Позже жена, успевшая дважды Официально выскочить замуж, Стала внезапно религиозной И укатила себе в Израиль. Там в девяностом, приехав в гости К сыну, узнал я, что должен дать ей Религиозный развод, поскольку Брак, от которого были дети, Если муж и жена — евреи, Зарегистрирован небесами. Чтобы бывшей моей супруге Вновь попытать семейного счастья, Нас равванут развести обязан — Официальный наместник Бога. Что ж до второго и третьего мужа, Оба не в счёт они, поскольку, Как выясняется, не евреи. В зале Верховного равванута Свечи горели, мерцая тускло, Из темноты вырывая лица Седобородых старцев, сидевших На возвышении, как на сцене. В чёрном торжественном облаченье. Перед Советом стоял я молча, Чёрной кипою накрыв затылок, Так, вероятно, стоял Спаситель Перед суровым синедрионом. Было главной задачей пьесы Установить достоверно — кто я, Кто мои мать, отец и предки, Сделавшие меня евреем. Это дознание шло неспешно Час или два, а возможно, больше. Сухо треща, чадили свечи На семисвечниках. Жёлтым воском Солнце сочилось из тёмной шторы, Остановившись, как при Навине. Глухо звучали слова раввинов, Мне непонятные. Представитель Мой перед Богом, писец конторы, Переводил их мне на английский. Он же потом на бумаге плотной, Непромокаемой, как пергамент, Изобразил документ конечный, Справа налево рисуя тушью Древние буквы, что Бог придумал До появления человека. Женщину к этому ритуалу Не допускают. Она за дверью Ждёт окончательного решенья. Только в конце её вызывают, И представитель мой перед Богом, Он же писец, ей вручает свиток, Схваченной шелковой белой лентой, С красной глиняною печатью, Оповещающий, что отныне Брак недействителен перед Богом. Ей говорят: "Ты теперь свободна. Можешь идти ты, куда захочешь, С этой минуты и всем мужчинам Принадлежать". И она уходит. С этим кончается представленье. В окна врывается ливень света. И председатель, собравший книги, Скинув тяжёлое облаченье, Спрашивает у меня по-русски: "Ну, и когда же вы к нам вернётесь?" Дверь распахнув, я вышел в город, Полный разноязыким шумом, В первом же баре напротив почты Водку со льдом заказал двойную, Радуясь, что наконец завершился Этот фарс, и смешной, и грустный, Ветхозаветный спектакль, в котором И для меня отыскалось место. Чем же горжусь и над чем смеюсь я, Жалкий безумец, изгой безродный, Так и не выучивший иврита, Только затем приходивший к Богу, Чтобы помог мне стать одиноким? Кто мне омоет больные ноги, Чашку с водой подаст под старость? Кто надо мной зарыдает громко И, спеленавши холстиной туго, Продолговатый тяжёлый свёрток В белую землю потом опустит? Чем ни займись я и что ни делай, Жизнь моя не имеет смысла. Ибо свободным себя признавший От языка своего и предков, Родины, сына, жены и Бога, Жить недостоин на этом свете. Крестьянка Оля (А.Городницкий) Всё это началось в семидесятом Или позднее на год. В том году Из-за развода мне закрыли визу И не пустили в океанский рейс. И мой дружок, доцент из МГУ (Сейчас он академик и профессор), Позвал меня преподавать на юг, На практику учебную, на судно "Московский университет". Оно В Крыму тогда базировалось. Прежде Кораблик этот, по проекту тральщик, Доставшийся от немцев как трофей, Был яхтою великого вождя, С названием "Рион". Согласно мифу, Усатый гений только раз всего Ступил на этот борт и пожелал Немедля выйти в море. Капитан, Хотя погода портилась, не смел Ему перечить. Судно в море вышло, И грянул шторм, осенний черноморский, Который здесь покруче океанских. Все укачались – экипаж, охрана, И только вождь один не укачался. Не раскуривший отсыревшей трубки, Невозмутимо он сидел в салоне И желтыми кошачьими глазами Смотрел на непокорную стихию. Когда же судно возвратилось в Ялту, Он Берию позвал и, дав ему Отмыться от блевотины, сказал, Что надо присмотреться к капитану, И капитан исчез. В каюте этой, Где Берия когда-то укачался, Я прожил две недели. И однажды, На палубу поднявшись, я увидел Ее впервые. С ножиком в руке Она сидела над большой кастрюлей И чистила картошку. В этот день Явилась смена новая студентов, И тут же их направили на камбуз. Когда я с нею встретился глазами, То моментально понял, что погиб, - Так чувствовал себя, наверно, Кай Под взглядом проезжавшей королевы. Она была мучительно красива Той редкою российской красотой, Которую словами не опишешь, А кистью удавалось передать Лишь Нестерову или Васнецову. И я узнал ее, поскольку в детстве Уже однажды видел на картине, Где в непроглядном ельнике сыром Иван-царевич, скачущий на волке, Везет царевну. На другое утро Я обнаружил у себя в каюте Букетик пыльных полевых цветов, И по тому, как на меня она Лукаво на занятии взглянула И сразу же потупилась смиренно, Я догадался, кто его принес. А после мы расстались. Я вернулся Обратно в Питер, а она в Москву, Но что-то изменилось. В сентябре Она ко мне примчалась на денек, И мы, шурша опавшею листвой, Бродили по ночному Ленинграду, Начав сначала – от дворца Трезини До Пряжки и Калинкина моста. Она мне представлялась в эту ночь Снегурочкой, что в Веденец сбежала От злых и недалеких берендеев. На следующий год я переехал В Москву и в рейс отправился в июле По ледовитым северным морям. Она же укатила в Казахстан На практику дипломную. И всюду, Во всех портах, куда мы заходили, На Диксоне, в Певеке, в Магадане, И далее в Хабаровске, – везде Я получал объемистые письма, Со штемпелем степного Казахстана, Пропахшие тяжелым пыльным солнцем И выжженной коричневой травой. До смерти никогда не позабуду, Как первый раз явился к ней в Москве На улицу Новаторов. Она Жила там на последнем этаже Пятиэтажки блочной. До сих пор Я помню адрес: дом сороковой, Четвертый корпус. Номер же квартиры Все с тою же четверкой – сорок пять. Дверь с лестницы была полуоткрыта. Она в передней домывала пол, На корточки присев и наклонившись Над тряпкой. На ее затылке русом, Где темечко меж лентами светлело, Как реки с одного водораздела Соломенные косы расходились, Сплетаясь вновь на загорелой шее. Сатиновый халатик, под которым Отчетливо обозначалась грудь, Был короток внизу и открывал Могучие янтарные колени, Чуть золотым покрытые пушком, Где наверху, над линией загара, Молочная мерцала белизна. Я не люблю худых изящных женщин, - Мне по душе гитарное барокко. Кустодиев и Рубенс мне милее Остроугольной Иды Рубинштейн. Углу предпочитаю я овал, И в Эрмитаже, школьником прыщавым, Стоять подолгу мог я, с вожделеньем Разглядывая статуи Майоля, Что назывались Фрина и Весна. Так вот, ни до, ни после этой встречи, Хотя немало самых разных женщин Встречалось в жизни путаной моей, Не испытал я и десятой доли Такой безумной жажды обладанья. Мы обнялись и опустились на пол, Ведро с водой при этом опрокинув. Я в эту ночь, осеннюю, глухую, Стал первым в жизни у нее мужчиной. Ах, лучше бы последним! Но тогда Мы не придали этому значенья. Где только с ней мы после не встречались, Раздобывая всякие ключи, В квартирах у друзей и их знакомых, В продымленных сварливых коммуналках, Где возле двери шастают соседи И выйти невозможно в туалет, В подвалах и мансардах, в мастерских Художников, в сараях, на пленэре, Где нас менты застукали однажды, В пустых апартаментах новостроек, Где мебелью служили нам газеты На скользком отциклеванном полу. Во всей Москве и ближнем Подмосковье Тогда, пожалуй, не было и дома, Где мы бы с нею днем не ночевали, А реже ночью. Получив диплом, На кафедре своей она осталась, Одновременно поступив ко мне В аспирантуру. В эти времена Я с Визбором ее и познакомил, Поскольку он, отправившись на съемки, Нам дал ключи от собственной квартиры На берегу Садового Кольца. Я песенку в ту пору написал О Пушкине – "Дуэль", и эта песня Ему, как видно, нравилась. Когда Представил я его своей подруге, Он руку протянул и произнес: "Привет, крестьянка Оля", – чем изрядный Мне сделал комплимент. И это имя Запало в душу ей и полюбилось. Туманный облик барышни-крестьянки Кружил ее головку золотую, И часто после этого себя Она с улыбкой Олей называла. Потом под осень, в семьдесят шестом, Мне удалось к себе ее оформить В морскую экспедицию, и месяц Мы штормовали около Курил На старом судне "Дмитрий Менделеев", Где дикости морского языка Она не уставала удивляться: "Что за команды странные – задраить Иллюминаторы на глухари. Сказать же можно попросту – закрыть На железяки круглые окошки". Забуду ли японские тайфуны У Итурупа? Носом на волну Стоял корабль более недели, Укрыться не успев за острова. И по ночам, когда безлюдно судно, Измученное многодневным штормом, По палубам кренящимся, по трапам, Из мокрых вырывающимся рук, По залитым водою коридорам, Тяжелые отдраивая двери, И закрывая бережно клинкеты, Она прокрадывалась снизу вверх, Стараясь, чтобы туфли не скрипели, Ко мне, в мою отдельную каюту. Там, занавесив узкое окно, Мы пили спирт, настоянный на зернах Лимонника – подарок Сахалина Японского, и горькое питье Закусывали ягодой клоповкой, С названием, обидным для нее, Поскольку никогда, да и нигде, Я ягоды не пробовал душистей. На узкой койке с синей занавеской Нас угнетала качка килевая, То выкинуть на палубу стараясь Через высокий деревянный бортик, Который больно ударялся в спину, То нас внезапно прижимая к стенке, Точнее – к переборке. За бортом, На метре от ее горячих ног И спутанных волос, кипела бездна Крутою пересоленной водой. Ревущая клубилась темнота, Подглядывая в мокрое окошко. Перемежая наши с нею стоны, Стонало судно от глухих ударов. Волна срывала шлюпки, через люки Тянула пальцы жадные к отсекам. Кок, обваривший руки, не готовил На камбузе обедов. О земле Вздыхали все, и только я один Мечтал о продолжении штормов. Потом мы с ней в Москву летели вместе Из снегом заметенного Артема. Я ей вино передавал в стакане, Мы пели песни, за руки держась, И с нею не могли уже расстаться, А не расстаться – тоже не могли. И оба понимали: все – конец. Примерно через месяц или два Она внезапно выскочила замуж, И с нею мы не виделись. По слухам, Она двоих девчонок родила И с мужем развелась внезапно, – так же Стремительно, как выходила замуж. А бывший муж, успевший прописаться В хрущевской их двухкомнатной квартире, Остался там же. Так они и жили, - Две дочери, она, ее мамаша И бывший муж, который ухитрялся Водить подруг в совковый этот рай. И все-таки осталась у нее Глухая тяга к Дальнему Востоку - К непроходимым зарослям бамбука, Крутым охотоморским побережьям И тихоокеанскому прибою, Качающему звезды на волне. На Сахалин отправилась она, Там завела роман и собиралась Переселиться в Южно-Сахалинск. Я сам туда ей, помнится, писал Тогда рекомендательные письма В морской дальневосточный институт, Но что-то не сложилось, и она Обратно возвратилась в МГУ На кафедру, на цокольный этаж, Где вечно дует. Нищая зарплата, Которой не хватает на троих, Старуха-мать, что вечно недовольна, И коммуналкой ставшая хрущоба. Мы с нею снова встретились зимой В пансионате Моженка, вблизи Звенигорода. Там тогда конгресс Научный проходил, – о чем, не помню. Все тот же цвет соломенный волос, Все та же стать царевны-несмеяны. Она под вечер постучалась в номер Ко мне, и мы до ночи пили кофе. Потом, уже собравшись уходить, Она сказала: "Если да – то да, А нет – так нет". И все пошло сначала. И вот совсем недавно, года два Тому назад, она опять умчалась, На этот раз на запад, выйдя замуж За немца. Он увез ее к себе В Германию, в провинцию Вестфален (А может быть, название другое), В свой крошечный опрятный городок, Где у него гостиница. При ней Кафе и бар. Ему нужна жена, Которая была бы в то же время Официанткой и посудомойкой, Поскольку нанимать – не по карману. В Европе жены русские в цене, Особенно в Германии, – они Неприхотливы и в работе споры, И красотою превосходят немок. Во Франкфурте-на-Майне год назад Я был с концертом, и она звонила По телефону: "Заезжай к нам в гости Попробовать рейнвейна". Я не мог Туда поехать. "Может быть, во Франкфурт Приедешь на концерт?" – "Да нет, – не выйдет. Работа от утра до поздней ночи Без выходных. Да и твои мне песни Не стоит слушать – обревусь потом". На станции метро, где парк культуры И Крымский мост, в подземном вестибюле, Я мраморную копию ее Недавно обнаружил – тот же профиль, Чуть вздернут нос, такой же лоб крутой Под гладкой винчианскою прической. Спокойные глаза, и белой шеи Лебяжий величавый поворот. А ноги, боже мой, какие ноги! Я всякий раз смотрю на них с тоской, За поездом пережидая поезд. Прощай, крестьянка Оля, ты теперь Уже не Оля, а скорее – Гретхен, Да только я не Фауст, и навряд ли Отыщется сегодня Мефистофель, Которому бы мог продать я душу За молодость и за твою любовь. |
NO COPYRATES AT ALL